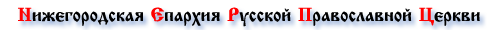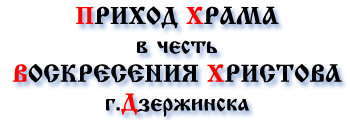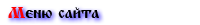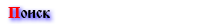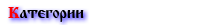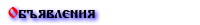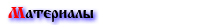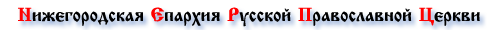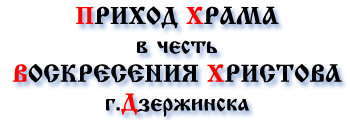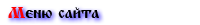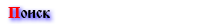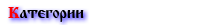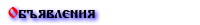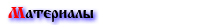Знаете, как бывает: спешит человек по своим делам, и вдруг запоют колокола, заплачут, засмеются. И сворачивает он, как миленький, с привычной дорожки, и бежит бегом, и вваливается под святые своды, отпыхиваясь, и озираясь, и недоумевая - с чего это он так бросился вдруг в церковь. И слышит: «Блаженны милостивые…», или «Горе имеем сердца», и так ему радостно вдруг – будто его позвали на его же собственные именины. И уже не удивляется он, зачем пришел сюда – будто так только и могло быть. Вот в точности как тот призывающий благовест зазвонил телефон однажды. И на несколько дней вырвал меня из привычного круга будней, бросая то на сто лет назад, то на сто километров южнее. И как я благодарна тому неожиданному звонку за это отрадное, невольное, нечаянное предстояние … На пороге чуда Звонила Елена Леонидовна Жирнова, доктор-фтизиатр. Вы наверняка помните ее - она долгое время была главным врачом противотуберкулезного диспансера. Мы с ней познакомились на благотворительной акции «Белые цветы», которые тогда только-только начали «распускаться». Она из старой медицинской гвардии, Елена Леонидовна. Из тех, знаете, врачей, которым назови фамилию пациента – и вспомнит доктор и историю болезни, и лицо, и судьбу. И мучаются они сейчас от нынешней повальной коммерциализации медицины, от бюрократизации ее, когда за бумажками человека не видно. И сетуют здравомыслящие эти люди, что погибает система не просто бесплатной – квалифицированной медицинской помощи. А ты ничем не можешь помочь. Но доктор Жирнова звонила по другой причине. «Вы часто публикуете истории о священниках, расстрелянных в годы советской власти. Все они канонизированы Церковью как святые. Нельзя ли как-нибудь узнать – может быть, и мой дедушка тоже уже признан святым? – нерешительно, осторожно интересовалась Елена Леонидовна - Он служил в селе Каменка Воротынского района. Был арестован в 1937 году. И с тех пор о нем никаких известий, только в 1976-ом мы получили справку о его реабилитации – и все. Может быть, в Церкви что-нибудь известно о его судьбе? Его звали отец Павел, Павел Васильевич Стеклов». Как я вцепилась в эту возможность написать о безвестном пока новомученике, священнике с Нижегородчины, чья внучка, плоть от плоти его, живет рядом с нами. И ведь вначале это был больше профессиональный, журналистский интерес. Только потом, прикасаясь к тайне Покровской церкви села Каменки, вслушиваясь в скорбный и одновременно победный строй, который звенит в воздухе над стареющей христианской деревней, встала душа на цыпочки, вытянулась в струну и запела, стараясь попасть в унисон, влиться в эту песнь торжества православия… Память сердца Елена Леонидовна не видела дедушку никогда. Хотя ей, наверное, самой в это трудно верить. Потому что вот они лежат, фотографии начала двадцатого века, и этот человек на снимках, со светлыми глазами, пушистыми волосами, седеющей нестриженой бородой – необъяснимо, невозможно родной. Как мама, как бабушка, чьи руки помнишь детством – как будто это не период жизни, а укромный уголок где-то возле сердца. И дедушка тоже там – негромкий, кроткий, ласковый. Живой… Его забрали девятнадцатого декабря, в ночь на Николая Чудотворца. Надо полагать, накануне ареста отец Павел отслужил всенощное бдение. А вот праздничную литургию уже не успел. Батюшке успели сообщить в тюрьму, что у его дочки Александры родилась малышка. Имя младенцу дали не сразу, поэтому трудно сказать, дошли ли до дедушки вести о том, что новорожденную назвали Леночкой. Потому что всего через две недели, третьего января, в отношении Стеклова П.В. вышло постановление тройки УНКВД. Что это было за постановление – Бог весть. Может быть, где-нибудь на Соловках надорвался батюшка. Но скорее всего приговор был расстрельным. И косточек теперь не найдешь, не похоронишь как полагается, потому что тела убитых священников тогда закапывали в общей траншее на Бугровском кладбище. Или просто спускали под лед. Жаль, так жаль, что невозможно обрести мощи сотен, тысяч священников, которые принимали мучение в то время. И совсем уж невыносимо жаль, что нет возможности поклониться честным останкам отца Павла. Его смиренные, детские глаза смотрят с фотографии, снятой за два месяца до расстрела, так, как будто не объектив камеры навели на него, а дуло автомата. И хочется как-то выплеснуть то, что вскипает в груди от этого взгляда, как-то выразить это сумбурное чувство – и вины, и скорби, и благодарности, и гордости, и чего-то еще, что светлячком гнездится в этом смятенье и благословляет все, что произошло, тихим, ласковым светом. Вот так припала бы к мощам да выплакалась бы по-бабьи. А вот нет… Матушка Засуетилась, задергалась: перерыла Интернет в поисках информации о священнике Стеклове, звонила в епархиальное управление. Результат был нулевой. Рассказ Елены Леонидовны как вирус бродил в крови, не давал покоя. …Все-таки счастье, что в начале войны ее, пятилетнюю девочку, родители отправили к бабушке в Каменку. С бабушкой этой, Клавдией Васильевной, вдовой отца Павла, прожили они вдвоем несколько лет. И матушка – так на Руси всегда называли жен священников, наверное, впервые после утраты, выговорилась. Маленькая внучка, сама того не осознавая, своими маленькими ручками, глазенками, сердечком помогла ей тянуть непреподъемный крест вдовы врага народа. Хотя вдовой себя матушка Клавдия не считала. Верила, что муж жив, до последних своих дней верила. Как-то раз случилось ей беседовать с мужичком, который с Соловков вернулся. Тот обмолвился – дескать был у нас там один священник, куклы из тряпок все мастерил и всем дарил. Ухватилась матушка – он, точно, он! Ведь десять детей у нас – вот батюшка куклы и делает. Хотя до этого отец Павел никаким таким рукодельем не занимался… Она жить за него пыталась. Вот как Ксения Петербуржская надела мужнин мундир: «Не зовите меня больше Ксенией», так и Клавдия Васильевна носила батюшкины штаны, тулуп, чай пила только из его стакана. Юродствовать не юродствовала, просто будто его тепло сохранить хотела. Врагами Стекловых в деревне не считали. Батюшку уважали, матушку любили. Если бы не эта любовь, не выжить бы им с Леночкой в войну. На что жили – уму не постижимо. Какая там пенсия – Клавдии Васильевне даже работать в колхозе запрещено было. (Хотя с нее налоги взимали исправно). Из родного дома после ареста батюшки ее переселили в избушку-засыпушку, о наделе земли и речи быть не могло. Но вот огородик в несколько грядок, который матушка самовольно разбила возле церковной ограды, никто не трогал – не разорить, не обворовать не пытались. Любили. Было за что. Елена Леонидовна помнит, как, бывало, стучат в окно среди ночи: «Матушка, завтра посылки на фронт отправляем. Свяжи уж, чай, нашему носки, Христа ради». «Свяжу». А легко сказать свяжу, когда шерсть-то принесут нечесаную, нестиранную. Выстирай, высуши, вычеши, смотай. Леночка помогает, пока сон не сморит. А потом только слышит сквозь сон: «Звяк» - упала спица, уснула бабушка. Но тут же опять мерное постукивание. А чуть свет, опять стук в окошко: «Матушка, готово?» Готово… Вот и несли ей – кто яичек, кто молочка, кто картошки. На Рождество, на Пасху праздничный стол общими стараниями не хуже, чем у людей получался. Верили в Каменке в Бога. Вот уж несколько лет, как в церкви службы не было, а не отвернулись селяне от Христа, не отвернулись и от вдовы своего пастыря. Значит пастырь такой был, ведь приход, как известно, от попа зависит. «Куда я без Христа…» Про батюшку Клавдия Васильевна рассказывала Леночке, какой он был заботливый, да незлобивый, да трудолюбивый. Девочка полюбила этого неведомого дедушку «в черном платье и в фартуке» - так она представляла подрясник и епитрахиль. И каждый раз, когда мимо их дома проходил добродушный мастеровой в фартуке настоящем, выбегала к нему навстречу: «Ты мой дедушка?!». И столько, видать, в этом ее возгласе было сердца, что мужичок норовил почаще пройти мимо матушкиной избы. Обнимет малышку: «Нет, доченька, не твой я дедушка». Будто игра у них такая была, душу согревающая. Без дела отец Павел никогда не сидел. В саду копался, пасеку держал. Семья-то многодетная, прокорми-ка дюжину ребятишек. Эх, дети-дети… Как больно родителям, когда все эти ветры перемен высвистывают из ваших душ все то, что свято для них. Так получилось, что дети Стекловых за годы революции отошли от Бога. Только старший, Леонид, сохранил веру до смерти – он, девятнадцатилетний, погиб в первую мировую, успев получить Георгиевский крест за ратную службу. Двое других сыновей – Михаил и Александр, пошли по партийной линии. Михаил был приближенным Ворошилова, его референтом. Позднее он погиб в Великую Отечественную. А у Александра карьера военного, вначале многообещающая, вдруг свернулась, скукожилась. Он уехал в Грузию, закончил Тбилисский университет, остался на кафедре истории, позднее ее возглавил. Женился он, кстати – вот ирония судьбы – на дочке армянского священника, чтобы спасти ее от репрессии. Ирония в том, что от отца Павла власти долго добивались ответа – где твои сыновья? Видно, слух прошел, что достигли они почета и положения, на которые по происхождению своему и права-то не имели. Да только свищи ветра в поле. Уехал, к примеру, в соседнюю волость, записал в документах, что отец у тебя крестьянин, а не священник и строй себе светлое будущее на здоровье. Вот это и сыграло свою роль – формальную, конечно – в аресте батюшки. А ведь его предупреждали дети, что этим может кончиться. Младший, Сергей, сколько раз отцу говорил – заканчивай ты с этими богослужениями, ты же грамотный, давай я тебя в колхоз устрою бухгалтером. Все, прошло то время, не вернется больше никогда. Не спорил. Вздыхал только: «Куда я без Христа на старости лет…» Он, видно, с Господом не расставался. Без Иисусовой молитвы такое так тихо не переживешь – это ж силища какая должна быть, терпение какое. Недаром фотограф, когда дети – дочь Саша и сын Сергей, привели отца в мастерскую, заявил с порога: «Священника снимать не буду!». Хотя на нем не ряса – полосатая косоворотка была. А бороды тогда еще многие носили. Учуял, как баба-яга: «Русским духом пахнет!». «Да он художник у нас, художник деревенский!» - успокоил мастера Сергей. И снимок получился. Тот самый – как перед казнью. В Каменку! Но ведь церковь в Каменке до сих пор сохранилась, может быть, она даже действующая. Надо просто найти телефон тамошнего священника и дозвониться до него – вдруг ему будет интересно узнать про отца Павла? Конечно, должно быть интересно, только может так оказаться, что батюшка служит, кроме Каменки, еще в трех местах, что он многодетный и ему некогда, что он только что заступил служить и не вник еще в дела. Просто не до того может быть человеку… Но человеку было до того. Более того – нет ничего важнее для отца Валентина Сидорова, нынешнего настоятеля Покровской церкви, чем жизнь его прихода. Не прошлая, настоящая и будущая жизнь – целая, единая, вне времени происходящая. С какой-то чудесной легкостью удалось мне заполучить его домашний номер – хвала священническому братству! (Телефон ему, кстати, и поставили-то недавно). И этот отрадный голос в трубке – неравнодушный, живой, звучал, как пасхальное приветствие: «Нам бы с вами непременно нужно встретиться. Может быть, вы сможете подъехать к нам, мы бы вам билеты оплатили». И всю дорогу казалось, что это я отца Павла нашла, и его сейчас увижу. Каменская церковь Покрова Пресвятой Богородицы – это, наверное, последнее, что осталось в селе от былого великолепия. После того, как Чебоксарское водохранилище затопило окрестные леса и позакрывались лесопредприятия, Каменка была обречена на медленную смерть. Молодежь разъехалась, и сейчас самой молодой прихожанке отца Валентина лет, наверное, семьдесят. Возле храма пасется стайка развеселых собаченций ростом с теленка. Вспомнив, что у меня не съеден сухой паек, а в церковь мясо заносить не положено, скармливаю этим чудовищам сосиски. Вот нахалки – теперь они сумку из рук будут вырывать! И скачут по церковному двору, как по собственной будке. Идите, говорю, отсюда, не положено здесь собакам - смеются надо мной, зубы скалят. Потом мне объяснили, что вытурить собак невозможно – они своих хозяек на службу провожают и ждут, пока те помолятся. Ну, против такой верной дружбы действительно трудно возражать. Вот и бабушек здешних сегодня в церковь не только служба, но и дружба привела. Я угодила как раз на отпевание. Сухенькая, маленькая старушка в необитом гробу лежит именинницей. Все-таки вот как страшно смотреть на молодого покойника, так вид умершего в глубокой старости внушает спокойствие, будто утешение даже. Так колос, созрев, роняет зерно, и нет в его пустоте унизительного насилия. Вслушиваюсь в слова панихиды – усопшую звали Ольгой. Упокой, Господи. Церковь теплая, уютная и живая. Топится печь. Батюшка Валентин – совсем такой, как представлялось – седеющий, в скромном облачении, мощные очки, искренние ноты молитвы. В руках какое-то невообразимое кадило. Как потом оказалось, самодельное – в нем можно использовать угли из печки, когда нет специальных, таблеточных. Каменские страстотерпцы Пока близкие прощаются с Ольгой, брожу по церковному некрополю. Вот могила Стекловых: Василий Яковлевич и Синклитикия Ильинична. Да это же родители отца Павла – Елена Леонидовна говорила, что они здесь похоронены. Поженились они в возрасте, у каждого это был второй брак, на двоих одиннадцать человек детей. Потом родился двенадцатый – Павел… Василий Яковлевич полвека был бессменным дьячком и псаломщиком Каменского храма – усердным и верным. У благочестивых и дети вырастают святыми. А вот какая странная надпись на кресте: «Любимские Вениамин Иванович и Зинаида Ивановна. Трагически погибли». А на фото – молодой священник с молодой женщиной, видимо с женой. Интересно, почему о его сане не упомянуто? И что с ними случилось? Отец Валентин, который как раз закончил службу, спешит объяснить, что это да, батюшка и матушка, которых растерзали бандиты, большевистские прихвостни. Это был 1920 год. Ему было двадцать восемь лет, ей двадцать семь. Ждали четвертого ребеночка. 10 августа, на Смоленскую, после службы, отправились к матушкиным родителям в соседнюю деревню – готовиться к родам, которые были уже близко. Тут их и настигли убийцы. Потом лесник, который прибежал на крики, но испугался увиденного и спрятался на дереве, расскажет жителям Каменки, что это было за зверство. Даже писать об этом тяжело, буквы в ужасе заплетаются. Их били, били, били – с издевательствами, с насмешками, потом батюшку запрягли в упряжку, матушку привязали сзади к тарантасу и погнали лошадей. Во время мучений родился ребеночек, но и это не остановило садистов. Пока батюшка мог говорить, он укреплял матушку словами Евангелия. И пока не потерял сознание, пел по ней, умирающей, панихиду. «Батюшка, а кто это - Чугарин Юрий Сергеевич? В 2002-ом умер…», - окликает отца Валентина тетечка, читая надпись на другом кресте в церковной ограде. «Да это ж Юрка!», - батюшка светлеет, отходя от жуткой повести о Любимских. «Юрка! – расплывается в улыбке и женщина – Точно ведь, Юрка!». Юрка – это местный блаженненький, инвалид детства. Он при церкви вырос, Таинствами вскормлен. Ума не дал Господь, а сердце – на троих хватило бы. Частенько он стоял над могилой мучеников, плакал и пел на своем языке, размахивая носовым платком, как кадилом. Мама Юркина все сетовала батюшке – вот помру, кому он будет нужен? А Юрка услышит – помирай, говорит, я в Церкви буду жить. «Я ему, бывало – кто ж тебе Церковь-то топить будет всю неделю? Ведь служба-то только в выходные! – с нежностью вспоминает батюшка – Эх, Юрка, Юрка…». Прихожане Отец Валентин о всех своих прихожанах говорит бережно, как драгоценные камни перебирает. И так чудно в его рассказе переплетается минувшее и настоящее, что время меркнет в этой истории противостояния света и тьмы в глухой русской деревеньке. Поведает батюшка о послушнице Анисье, одной из сестер разоренного Красногорского монастыря, о том, как долгие годы мыкалась она по сталинским тюрьмам и лагерям, а потом, живя в Каменке, до глубокой старости ходила на все службы в Разнежье, где был единственный на Воротынский район действующий храм. А умерла-то как! Пошла еще с одной богомолкой, как всегда, к литургии, да на середине пути занемогла – шутка ли, восемьдесят лет! Повернула, было, назад, да загородили ей дорогу два светлых юноши со свечами в руках: «Нет, Анисьюшка, тебе надо идти в храм!» Добрела, как Бог дал, исповедовалась, причастилась. Уложили ее отдыхать в сторожке – тут она и отошла тихо, как уснула. «А рассказала это Оля Шишина, - добавляет батюшка – Ну вот, которую мы сегодня схоронили». «А уж сама-то Оля какая была!» - подключается матушка Валентина (Да, они Валентин и Валентина). Дождь не дождь, снег не снег – она идет на службу, несмотря ни начто. На двух костылях – ноги-то уж у нее почти не двигались, а идет… И вот всё у них так. В Каменке люди как будто привыкли к подвигам, живут, как будто быть сильнее себя - для человека естественно. Приход – как один человек, одна душа. Потеряли в двадцатом году пастыря – выстояли. Сменилось у них потом несколько священников-наемников, которые все за свою мошну переживали – выстояли. Правда к 1923 году, по бумагам, которые бережно хранит отец Валентин, из полутора тысяч жителей села не побоялись назваться чадами Церкви только 275 человек. Но зато когда вспомнили православные про сына-то дьячка Василия, да позвали его к себе служить, да встал он, отец Павел Стеклов у Престола Божьего – резко вырос список общины. И уже 763 человека числилось в 1927 году прихожанами Покровской церкви. Унылую басню о неудалых пастырях, которые отказались от священного сана, окончив служение на какой-то петушиной ноте тяжб с прихожанами – то телегу не дали, то процент от дохода не тот, одним росчерком пера перечеркнул пастырь добрый, одной строкой своего письма: «Условия, какие есть, принимаю». И принял условия Каменского подвига, и смерть, как условие, принял. Крепче смерти… …Так и хочется похвалиться – вот он какой, мой отец Павел! Жаль, что нет у меня на это права… Хотя почему нет? И отец Павел мой, и отец Вениамин с матушкой Зинаидой. И Юрка, и Ольга Ивановна Шишина. И отец Валентин с матушкой Валентиной, и Елена Леонидовна тоже. И другие родные люди – ныне живущие и скрывшиеся за ширмой смерти, о которых только слышала я, или не слышала совсем. Господь пишет о нас эту невообразимую повесть, где происходят с нами «великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же несть числа». Удержаться бы только на светлых страницах этой книги, Книги Жизни, не вырваться из руки Господней, не поскользнуться на собственных страстишках, не кануть в пустоту. А как удержишься, когда такой шторм вокруг? В житейской буре, которая разыгралась в мире нынче, только и можно, что вцепиться в фелонь новомученика – не бросит, вытянет. Выплакаться в епитрахиль приходского священника – простит, разрешит. Окинуть взглядом церковную историю, оглянуться на службе на прихожан – вот оно тело Христово, терзаемое, страдающее. Но нетленное, вечно преображающееся. И единство наше в этом – сильнее страстей, крепче смерти, больше нас самих. Ведь так, отец Павел? Евгения Павлычева |